|
|

-
02Мар2010
Выложила в сеть книгу «Мать сыра земля». Затрудняюсь с определением жанра. Наверное, альтернативная история? Книга отличается от всех предыдущих, это не фэнтези и не фантастика.
Событие в моей жизни важное, написана книга была ровно год назад, и вот наконец отредактирована. И я наконец готова представить ее читателям (хотя страшно, как всегда).
«Мать сыра земля»
В маленькой северной стране, оккупированной миротворческими силами, в полуразрушенном бомбежками городе живет угонщик автомобилей, а вместе с ним – четверо мальчишек-беспризорников. Ему нет дела до того, что по его земле ходят чужаки, он не вмешивается в политику и презирает бойцов сопротивления. До тех пор пока не сталкивается с вывозом за рубеж уникальной технологии…
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 11 декабря 2018 в 6:02 Просмотров: 535
Метки: мои книги
-
23Фев2010
Закончила делать сайт для «Черного цветка». Вот такой получился:

Особенно горжусь галереей иллюстраций. Кроме того, в первый раз выкладываю в сеть отредактированную версию (для чтения и скачивания).
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 11 декабря 2018 в 5:52 Просмотров: 397
Метки: мои книги, Сайт
-
15Фев2010
Всем нацикам, читающим мои книги: между национализмом и патриотизмом огромная разница. Национализм опирается на генетическое родство, патриотизм – на общность людей, связанных одной землей. Так вот, я патриот, а национализм считаю страшнейшим пороком, разрушающим нацию — его носителя. И хочу заметить, что русские никогда не были националистами, да и понятие «нация» (в отличие от понятия «народ») появилось в конце 19 века. «Народ» — это те, кто населяет данную конкретную территорию, независимо от их генетического родства. И мне народ, с которым я живу, ближе и дороже абстрактной нации, которая существует лишь гипотетически, ибо нет и не будет четкого критерия, кого из нас считать русским, а кого не считать.
ЗЫ. И чувство пролетарского интернационализма мне не чуждо :).
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 11 декабря 2018 в 5:43 Просмотров: 1122
Метки: Страна
-
12Янв2010
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 11 декабря 2018 в 5:40 Просмотров: 341
Метки: Фото
-
15Окт2009

Режиссер: Висенте Аморим/Vicente Amorim
Год выпуска: 2008
Страна: Великобритания, Германия
В ролях: Вигго Мортенсен / Viggo Mortensen, Джейсон Айзекс / Jason Isaacs, Джоди Уиттакер / Jodie Whittaker, Стивен Макинтош / Steven Mackintosh, Марк Стронг / Mark Strong, Джемма Джоунс / Gemma Jones.
Совсем недавно я встретила где-то мысль, развенчивающую принцип «Так устроен мир» (или, еще чаще, «Такова жизнь»). Я не помню, где я об этом прочитала, и не хочу приписывать себе авторства самой идеи порочности этих принципов.
Мир устроен так, как мы его устроили. Или молча согласились с его устройством. Фильм «Хороший» — один из лучших тому примеров. Он не о нацизме и не о Германии. Он о том, что каждый из нас несет ответственность перед миром, в котором живет. А на примере нацистской Германии это просто отлично видно, потому что сейчас нам не о чем думать, фашизм развенчан и осужден. И нам действительно кажется странным: как можно было с этим соглашаться? Мы видим героя продажной бесхребетной тварью и не хотим знать, что это – о нас.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Сейчас нам приходится молча соглашаться с тем, что еще не развенчано и не осуждено. И мы сами не замечаем, как становимся соучастниками того, чего не одобряем. И у нас, как у героя фильма, есть тысяча причин быть соучастниками. А главная причина: такова жизнь, мир так устроен, и не нам его менять.
«Займемся обедом, займемся нарядами,
Заполним заботами быт.
Так легче, не так ли?
Так проще, не правда ли?
Не правда ли, меньше болит?»
А кому его менять, как не нам?


В центре фильма стоит мыслящий человек, человек, имеющий принципы, отличные от принципов нацистов, а не беспринципный обыватель. Джон Холдер (Йоган Хальдер), сыгранный Вигго Мортенсеном, — профессор университета, задерганный бытом: жена-пианистка не умеет и не желает вести дом, а денег на прислугу нет, дети ссорятся, больная мать на грани маразма хочет внимания и мочится под себя, чтобы его (внимание) к себе привлечь. Ничего удивительного, что по ночам герой пишет роман о благотворной эвтаназии.
И через четыре года, в 1937-м, его роман замечают… наци. И не просто замечают: сам фюрер прочитал книгу и ему понравилось. Сотрудничество с рейхсканцелярией начинается с маленького эссе о гуманности эфтаназии, но оплачивается оно так щедро, что отказаться невозможно. Шаг за шагом движется вверх его карьера. И каждый шаг оплачен маленьким отказом от самого себя, от своих принципов.
Во дворе университета жгут книги? Надо что-то сделать, но тогда ты будешь уволен. Кто из нас сейчас способен выступить против сожжения книг под угрозой увольнения? Никто. За редким исключением тех, кого мы причисляем к сумасшедшим.


Лучший друг-еврей просит билет до Парижа? Кто из нас готов рискнуть карьерой, чтобы выполнить такую просьбу? Мы не будем думать о плохом, мы скажем самим себе, что в Германии с евреями ничего страшного не случиться. Мы пошевелимся только тогда, когда будет поздно. И будем мучиться чувством вины, но менять ничего не станем.
Въехать в квартиру профессора Мандельштама, заняв его место зав. кафедрой? Легко. И чувствовать себя в ней неуютно, но въехать, и жить, и радоваться жизни. Испытывая невыносимые угрызения совести. Кто из нас способен отказаться от такого? Кто рискнет жильем ради каких-то принципов? Только сумасшедший.
И ходить с инспекцией по домам умалишенных в качестве «консультанта по гуманности».
И надеть на себя форму СС.
И лгать, изворачиваться, когда тебя спросят: почему среди твоих знакомых когда-то был еврей? И чувствовать, что предаешь друга еще раз.
Чтобы в итоге приехать в лагерь смерти и своими глазами увидеть, что делается с твоего молчаливого согласия.

Мы заслужили тот мир, в котором живем. Каждый из нас на месте героя фильма делал бы то же самое, что и он. И это страшно.
Фильм, кстати, очень хорош. Говорят, критики плохо о нем отзываются, но я не критик, я взыскательный зритель. Фильм держал меня с первой до последней секунды, каждая мелочь, каждая деталь в нем (а их очень много) воспринималась остро и болезненно. Редчайшее сочетание, когда фильм затрагивает одновременно и эмоциональную, и интеллектуальную сферы.
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 13 февраля 2019 в 10:17 Просмотров: 344
Метки: Кино
-
04Окт2009
СССР, Ленфильм, 1958 г. По одноименному рассказу Джеймса Олдриджа. Режиссеры: Теодор Вульфович, Никита Курихин.
Николай Крюков, Слава Муратов, Михаил Глузский и др.
Принято считать, что в Советском Союзе настоящие художники не имели возможности творить. «Последний дюйм» — одно из опровержений.
Сложные взаимоотношения отца и сына, сложный человек, сложная ситуация, жестокий мир разобщенных людей, в котором никто тебе не поможет.
Мир, которым правят деньги.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Атмосфера безысходности конца пятидесятых отражена очень точно, в фильме нет подвигов в нашем понимании этого слова, все, что совершают герои фильма, они делают от отчаянья, от желания выжить.
Мир, в котором люди не живут, а выживают.
А еще — море, сначала прозрачное и спокойное, а потом – пенное, бьющееся о камни. И удивительная песня, слова которой годятся для дешевого кабака и пьяных солдат, вдруг приобретает совсем другой смысл, завораживает, потрясает…
Фильм четко выстроен от первого до последнего кадра, в нем нет ни одного лишнего слова или взгляда, в нем все имеет значение.

Сложнейшая, противоречивая линия взаимоотношений отца и сына разворачивается с первых кадров, когда Бен грубо обрывает Дэви, смеющегося над летчиком-новичком. И нам кажется, что детская психика требует более тонкого обращения. Да, Бен не психолог и не педагог, но мир, в котором он живет, научил его жесткости. И именно эта жесткость спасет в конечном итоге и его, и Дэви. На пустынном берегу моря, за десятки миль от людей не будет места жалости и снисходительности.
Да, Бен не всегда справедлив и не всегда сдержан, и вряд ли он задумывается о том, зачем ведет себя с сыном так, а не иначе. Мальчик же ищет отцовской любви, внимания, похвалы, — и не находит. И снова нам кажется, что отец мог бы быть мягче и сердечней, забывая о том, что похвалы обесцениваются, если раздавать их слишком часто и щедро.

Но истина обнажается тогда, когда над героями нависает смертельная опасность. Когда действовать надо через «не могу», надрывая последние силы и превосходя возможности этих последних сил. Иначе – смерть. Грубыми окриками заставляя Дэви тащить себя к самолету, Бен спасает не свою жизнь, а жизнь мальчика. И кто знает, нашел бы ребенок в себе столько сил, если бы не безжалостное отцовское «Можешь!»
Преодолев себя, почувствовав себя сильным, Дэви и сам забывает о жалости к себе, и его бравада в ответ на участие Бена – первая победа.
Дэви дорого дается скупая похвала отца. Три долгожданных сыном слова срываются с губ Бена сами собой и имеют волшебную силу: «Молодец, Дэви. Молодец». Когда до земли остается последний дюйм, который решает все. Кто знает, имели бы эти слова такую силу, если бы Бен говорил их каждый день?


Для тех, кто подозревает фильм в наглой советской пропаганде, рисующей мир капитала черными красками, хочу провести параллель между «Последним дюймом» и «Отражающей кожей» Филипа Ридли (1990). Безысходность в «Отражающей коже», показывающей тот же период, страшней и ярче. Западные режиссеры не любят говорить о деньгах, у них другая этика, но за безысходностью всегда стоит бедность, невозможность вырваться из отрисованных для человека рамок. И судьба маленького Сета из «Отражающей кожи» гораздо мрачней, чем будущее Дэви.

Бен – не искатель приключений. Бывший военный летчик, он вынужден зарабатывать деньги, рискуя собственной жизнью. И деньги неслучайно становятся причиной трагедии: не жадность толкает Бена в море, кишащее акулами. «Камера – 600 долларов, и то, что в ней – не меньше тысячи. Подарить такую сумму акулам? Я не настолько богат».
Николай Крюков рисует Бена человеком, уставшим от жизни. И азарт, и жадность кажутся слишком мелкими для такого прагматичного человека. Но и прагматизм Бена — вынужденный, наносной. Он не приспособлен для такой жизни, в нем нет цинизма дельца, он не умеет быть скользким и хитрым. Сила духа и чувство собственного достоинства – единственная его защита от мира денег. Эти качества позволяют человеку оставаться на плаву, но никогда не приносят богатства. И мир давит его, сминает, и скоро сомнет окончательно: в сорок три года почти невозможно найти работу летчика. Бена ждет нищая, унизительная старость… Как и большинство из нас.

Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 13 февраля 2019 в 10:18 Просмотров: 455
Метки: Кино
-
11Сен2009
В галерею «Вырицкие пейзажи» добавлено 6 новых альбомов.
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 11 декабря 2018 в 5:33 Просмотров: 344
Метки: Фото
-
01Сен2009
или что Восток пообещал Девиду Кроненбергу

Недавно раскопала в сети свою рецензию двухлетней давности на фильм Дэвида Кроненберга «Eastern promises», прошедший на наших экранах под деликатным названием «Порок на экспорт». Решила привести ее здесь.
Расхожие клише и нестыковки сюжета, полное незнание структуры русского уголовного мира, передергивание с хронологией. Мы, ребята, в России гнием и умираем в нищете, но есть счастливцы, которым удалось срыть в Лондон. Все, что касается русских – такая дешевка, будто Кроненберг был мертвецки пьян по время съемок и хотел приравнять фильм к самым низкопробным голливудским стандартам. Но за всем этим стоит художник, талантливый и умелый, который, сквозь дырявый сюжет, несет зрителю «правду» о том, что из себя представляют русские. Не только кровь и насилие, хотя русские превосходят по жестокости кровавых монстров из фильмов ужасов, а еще пошлость, демагогия, отсутствие элементарной культуры. Когда американцам захочется сибирской нефти, весь мир встанет за них горой – посмотрев ЭТО сразу понимаешь, что русских не только можно, но и нужно убивать. Кого-то – за дело, кого-то – из жалости, чтоб не мучились.
Сначала – смешно, но постепенно смех переходит в чувство неловкости. Я глубоко уважаю Кроненберга, я люблю Вигго Мортенсена, мне ужасно нравится Винсент Кассель, я способна оценить обаяние Наоми Уоттс. И именно поэтому у меня по окончании фильма сложилось впечатление, что я наступила ногой в дерьмо.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
И не надо обвинять Кроненберга в том, что он плохо изучил материал – ему это не требовалось. Он показал то, что хотел показать. До слез жалко мистера Мортенсена, над которым потешается все постсоветское пространство: и за кличку «Пень», и за патетические звезды на груди, и за русский язык – он, конечно, умница, и говорил хорошо, но разве русские так говорят?
Попутать отморозков с ворами в законе! Нет, честное слово, я не верю, что Кроненберг столь наивен. Да любой русский школьник знает, что воры в законе делают с теми, кто насилует малолеток! Не выяснить такого существенного факта можно только имея злой умысел!

Это чудовище поет «Очи черные» — одна из отвратительнейших сцен в фильме.
Весь мир рукоплещет: истерия времен охоты на ведьм. Русские свиньи в Лондоне! Они не только отвратительны, но и опасны, хотя, конечно, тоже чувствуют что-то вроде жалости к молоденьким проституткам, хлещущим водку из горла. Заметьте, с какой силой все они, включая героя Мортенсена, ненавидят Родину!
«Небольшая деревенька недалеко от Новокузнецка, мне это место хорошо известно. Определенно неподходящее место, чтобы расти там», — говорит Мортенсен, после чего Уотс решает не отдавать девочку родственникам, а удочеряет ее под восторженные аплодисменты западного зрителя. Это так трогательно, особенно если вспомнить о несчастной вдове из этой деревеньки, потерявшей дочь. Ей, я полагаю, лучше всего повесится, чтобы не гнить «в жуткой нищете».
В общем, ресурсы Сибири принадлежат нам нечестно, тут Кроненберг, я думаю, согласен с Мадлен Олбрайт. Иначе зачем он все это снимал? И если кто-то скажет мне, что русские им изображены правдиво, я плюну тому в лицо. Снова речь идет о полуправде, которую невозможно развенчать. Интересно, если американские войска начнут делить сибирские недра «на весь мир», как они собирались сделать в Ираке, Вигго Мортенсен согласится с этим или снова наденет футболку с надписью «Хватит лить кровь за нефть»?
Общий вывод: Кроненберг – человек загадочный и неглупый. Неужели он настолько нас ненавидит? Или он просто хотел окупить немалые деньги, вложенные в фильм? И тогда нас настолько ненавидит не только он, но и весь западный зритель. Теперь – еще сильней.
Напоследок. Нашумевшая драка в бане: женский взгляд.
Они приходят туда в кожаных куртках времен братков и очень оригинально смотрятся на фоне голых мужиков, я бы сказала – бросаются в глаза издали. У них один нож на двоих – кривой и острый, но очень короткий. Чечены советуют друг другу прикончить Мортенсена. Простите, но это серьезное кино, которое относят к разряду интеллектуальных, или интеллектуалы американского континента привыкли к комиксам настолько, что понимают только так?
Мортенсену хватает времени свернуть шею одному, и только потом второй чечен спохватывается и тоже бежит его гасить. Что он делал до этого – совершенно не понятно, в кадр он не попадает, но и разверстый на полу не валяется. По всей видимости, ждет своей очереди быть убитым. Но он не втыкает нож Мортенсену под лопатку, что было бы логично и удобно, а зачем-то наносит ему хренову тучу поверхностных ножевых ран, несомненно, болезненных, но совершенно неопасных. Кровища, естественно, льется рекой. Благородный герой прикрывается невинным дядечкой, что демонстрирует нам: ничто человеческое благородным героям не чуждо, для спасения собственной жизни хороши любые средства. Девяносто девять благородных героев из ста сделают точно так же, и не надо спорить с режиссером – он так видит русских.
Финал потрясает своей оригинальностью: в тот момент, когда Вигго переползает через поверженного чечена (будто в бане мало места и обползти его никак нельзя), тот внезапно оживает, и рука его полна нечеловеческой силы. Мортенсен хватает коротенький (но очень острый) ножик за лезвие, полностью накрывая его ладонью, и вонзает его кончик (по моим расчетам, длиной примерно в полсантиметра) в глаз врагу. Кровища льется снова, будто клинок проткнул глаз до самого затылка. Чечен издыхает, Мортенсен падает на него без чувств.
Кроненберг – мастер снимать драки. То, что я видела до этого, выглядело, по крайней мере, правдоподобно. Я не знаю, откуда столько восторгов по поводу этой сцены! У меня сложилось впечатление, что она нарочно снята в стиле приколов на тему американских боевиков. Нет, в ней были и достоинства, но их перечислили и без меня. Единственное, что хочется отметить, и то, мимо чего прошли все остальные: голый человек в драке не сексуален, а беззащитен. И это – действительно сильный режиссерский ход.
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 13 февраля 2019 в 10:20 Просмотров: 366
Метки: Кино, Страна
-
31Авг2009
Навеяно «Товары для неудачников».
Я недавно купила клавиатуру. Я всегда покупаю простые недорогие клавиатуры, мою их и чищу время от времени. Сейчас печатаю на той, которая была куплена 7 лет назад за 200р.
Так вот, купила… Захотелось черного с серебром, под монитор и системный блок. Оказалось, она одноразовая. Производитель, снизив ее себестоимость на 10 центов (по моим скромным экономическим прикидкам), сделал ее разборку и сборку невозможной в домашних условиях. Верней, собрать можно, но дешевле купить новую.
У меня две мыши. Одна куплена 5 лет назад (на работе) и тоже рублей за 200, вторая – навороченная игровая, для дома – для семьи, за 850р. Куплена полгода назад. Так вот, навороченную мышь пора менять: у нее кнопки западают. Она – одноразовая. Производитель сделал все, чтобы я через полгода купила новую.
Да, это бизнес. Я отдаю себе в этом отчет. Но кому нужен этот бизнес? Всякая экономическая система является в определенной степени замкнутой. И каждый из нас – часть экономической системы.
Мы живем в мире одноразовых вещей. Одноразовые телевизоры, холодильники и стиральные машины, одноразовые полотенца, одноразовые кастрюли, одноразовые куртки и сапоги. И себестоимость этих вещей увеличится едва ли на 20-30%, если увеличить срок их службы в десятки раз. Как с купленной мною клавиатурой. Только никто не станет этого делать: это невыгодно. Насколько подорожает чайник, если пластмассовый выключатель заменить на металлический? Да на 3 копейки! Но тогда кнопочка не сломается вовремя, и покупатель не побежит в магазин за новым.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
С каждым днем все выгодней становится сокращение срока службы вещей, и это – снежный ком. Конкуренция. Тот, кто не сократит срока службы вещи, рискует через год остаться без покупателей. И можно тысячу раз твердить о поддержании репутации: никакая репутация не увеличит число покупателей в 10 раз, если мышь и клавиатуру можно будет приобретать раз в 5 лет, вместо того чтобы делать это раз в полгода.
И главное: мы с вами не только потребляем одноразовые вещи (производя при этом горы мусора и переводя драгоценную нефть в пластмассы), мы их производим. Каждый человек в мировой экономике занят производством одноразовых вещей. И получает деньги за их производство, чтобы на эти деньги покупать одноразовые вещи. Вот это, с моей точки зрения, страшно. Мы убиваем свою жизнь, мы тратим ее драгоценные часы на то, чтобы бизнес крутился. Чтобы кто-то получал с этого прибыли (и мы тоже – какую-то часть этих прибылей). Человечество могло бы работать в два, в три раза меньше и тратить время на что-то более полезное, нежели изо дня в день делать одно и то же. Например, на освоение космоса. Гы. Разве не мечтает человечество о том, чтобы исчез тяжелый однообразный труд для высвобождения времени для труда творческого?
Бизнес «одноразовых» вещей убивает эту мечту. Мы работаем не для того, чтобы жить, а для того, чтобы процесс не останавливался, производим ради производства и продажи, а не для использования. Потому что для использования можно сделать клавиатуру со сроком службы 7 лет, но для продажи такая уже не подходит. И стоимость этой клавиатуры будет едва ли на 10% выше той, что прослужит месяц. Сравните соотношение «цена – качество».
Как-то раз прочитала в учебнике по маркетингу в качестве примера правильного ведения бизнеса: нож для чистки картофеля делают с ручкой коричневого цвета. Чтобы, случайно оказавшись в картофельных очистках, он был не очень заметен. Тогда вероятность того, что нож будет выброшен вместе с очистками, повышается, а, следовательно, повышаются продажи новых ножей. Дурят нашего брата!
Это тупиковый путь развития экономики. Рано или поздно он приведет к полному коллапсу экономической системы (как всякий снежный ком, будь то инфляция или выстраивание финансовых пирамид). Каждый производитель закладывает в свой товар необходимость регулярных покупок. Отсюда сказки о пользе ежедневного мытья головы и необходимости пластических операций после 40 лет, отсюда добавки в пиво, вызывающие привыкание к определенной марке, отсюда байки о вреде холестерина, модные журналы и призывы звезд менять платья каждый день. Отсюда кредиты, которые с легкостью дают банки. Отсюда бары, куда можно приходить с грудными детьми: мы должны покупать, покупать, покупать. Иначе экономика рухнет. Но мы не думаем о том, что за этим «покупать» стоит «производить, производить, производить». Производить никому ненужные или одноразовые вещи. Оказывать никому ненужные услуги. Как будто людям больше нечем заняться… Подумать страшно, сколько бы мы могли сделать за это время! А ведь мир Полудня не такая утопия, как кажется…
Господа, мы все работаем на тех, кто снимает с этого сливки. Хотим мы этого или не хотим – нас заставляют. Всеми правдами и неправдами. Как с ножом для чистки картофеля.
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 13 февраля 2019 в 10:21 Просмотров: 369
Метки: Страна
-
30Авг2009
Уральские сказы Бажова – настоящее сокровище в русской литературе, истории, этнографии. Собственно, этот тест создан для того, чтобы вернуться к хорошо забытым сказам, вспомнить, перечитать то, что так нравилось в детстве.
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 11 декабря 2018 в 5:15 Просмотров: 320
Метки: Тесты
-
30Авг2009
«Восхождение» Ларисы Шепитько против «Проверки на дорогах» Алексея Германа
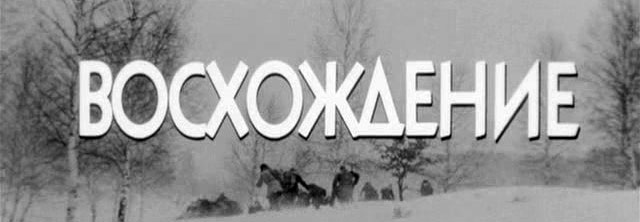

Два фильма-близнеца, казалось бы. Зима, партизанский отряд в поисках пропитания. Ватники, снег, костры и землянки. Чернеющие в поле деревенские дома. Лающая немецкая речь, автоматные очереди. Война без прикрас, со всей ее нарочитой грязью и грубостью.
Фильм Германа пролежал на полке с 1971 до 1986 года. Фильм Ларисы Шепитько вышел в 1977 году, сразу после создания, хотя ему пророчили ту же судьбу, что и «Проверке на дорогах». Теперь, признавая за «Восхождением» высочайшие художественные качества, кинокритика пишет о случайности, сопровождавшей выход фильма в свет. Сейчас это модно, доказывать, что все хорошее появлялось в советской стране не благодаря, а вопреки.
Нет, фильм вышел на экраны не случайно. Фильм «Восхождение» — достойный ответ Алексею Герману. Словно предтеча «Проверки на дорогах». И если сначала посмотреть «Восхождение», «Проверка на дорогах» и ее глубинный смысл предстанут перед нами совсем в другом свете. Гуманизм Германа уже не будет казаться христианской добродетелью, зато ненависть отрицательных героев фильма Германа покажется оправданной.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Фильм Ларисы Шепитько – о предателях. О том, насколько разными они были, какое множество причин приводило человека к предательству. Фильм-исследование предательства. Каждый из героев фильма, кроме Сотникова – или предатель, или готов предать.
Мне кажется неслучайным, что антагониста в обоих фильмах играет Анатолий Солоницын, только в «Проверке» он «красный», а в «Восхождении» — наоборот.
Портнов – самый опасный предатель. Предатель, уже привыкший к своему предательству и оправдавший его перед собой. Он служит немцам не за страх, а за совесть. Он считает себя правым. И все же… Откуда это желание заставить и других стать предателями? Заставить любой ценой: хитростью, уговорами, убеждением, пытками? Так ли нужна ему информация о партизанском отряде? Нет, на следующее утро он уже не помнит об информации, он отказывается от нее. Для него главное доказать, что все вокруг него предатели. Потому что страшно быть предателем одному. Потому что каждый, кто отказывается предать, становится бельмом на глазу, мешает оправдывать самого себя.

«Пал Гаврилыч у нас хором руководил», — говорит Бася. До войны еврейская девочка была его ученицей. Теперь он допрашивает ее и хочет узнать, кто ее прятал. Вся гнусная, чудовищная суть предательства – именно в этом. Можно подводить под него идеологическую базу, но нет такой идеологической базы, которая оправдает эту бесчеловечность, эту низость. Надо быть скотом, чтобы смотреть в глаза своей бывшей ученицы и не краснеть. Жизнь, как бы ни была прекрасна, не стоит того, чтобы платить за нее такую цену. И уж тем более того не стоят политические убеждения, сытный паек и возможность ходить в шляпе.
Старик-староста, работающий и на партизан, и на немцев, тоже предатель. Никто не знает, кого он боится больше, немцев или партизан. Обнимая еврейскую девочку, он хочет – и мы догадываемся об этом, и мы боимся этого – купить свою жизнь, раскрыв немцам ее тайну. И девочка предает своих спасителей, невольно предает, растаяв от доброты старика. Хотя ее не спасет от смерти никакое предательство.
Демчиха, умирая, обрекает на смерть своих детей. И не о собственной жизни она думает, а о том, что станет с ее детьми. Ее предательство можно было бы оправдать. И она готова предать, спасти жизнь любой ценой. Раз Рыбак спасается предательством, она тоже может себе это позволить. Вдвоем это не так страшно. Она уже решается на это: купить жизнь ценой чужой жизни. И не может. В последний миг срабатывает барьер: или жить здесь, среди людей, знающих о твоем предательстве, или умереть. Она до последней секунды не верит, что умрет, но не готова заплатить за жизнь такую цену.

«В эпизодах» — множество халуев, продажных полицаев. Они – фон фильма, они – мразь, о которую можно вытирать ноги. Они не стоят того, чтобы о них говорить всерьез, рассматривать их душевные движения, идеологию, страхи и совесть. Все они веселы, нарочито веселы. И они всегда вместе, это «вместе» оправдывает их в собственных глазах. Раз все вместе, то всё прощается, все позволено.
И, наконец, Рыбак (великолепная роль Владимира Гостюхина). Человек, который любит жизнь. И готов купить ее ценой предательства. Он долго идет к этому, он уже готов предать, но ему мешает Сотников. И Рыбак уговаривает его солгать, притвориться. Потому что одному стать предателем страшно. Другое дело – вместе с кем-то. Это «вместе» позволит сказать: «Я не один такой». Это «вместе» успокоит совесть. Он гадок и жалок, когда перешагивает барьер. Можно ли его оправдать? Можно. Оправдать и вытереть об него ноги. Потому что рядом с ним стоит Сотников, который не испугался и не предал.
Сцена с повешеньем до последнего момента вызывает ощущение фарса, нереальности, настолько она будничная, серая, невзрачная. Словно не о жизни человеческой идет речь, не о ритуале, каким всегда была казнь, а о проходном эпизоде в хозяйственной жизни оккупированной деревни.

И Рыбак – рядом с ними, рядом с теми, с кем должен был умереть. И иногда кажется, что он тоже идет на казнь, что его сейчас повесят вместе со всеми. Он неотличим от них, он – один из них. И только когда они умирают и он остается один, становится ясно, в чем его отличие.
Они умерли – а Рыбак остался жить. И в память о тех, кто умер, но не предал, их нельзя ставить рядом.
Весь ужас того, что он сделал, доходит до него тогда, когда один из холуев говорит, как ловко Рыбак повесил Сотникова. Он не вешал его – думал, что не вешает. Он обнимал чурбачок, на котором стоял Сотников, так, словно припал к его ногам. И совесть Рыбака не может вынести правды. Одна из сильнейших сцен фильма, его кульминация – не сцена с повешеньем на площади, а сцена повешения Рыбака в сортире. Он не мог умереть как человек, он готов сдохнуть как собака. Потому что больше ему ничего не осталось. Он заплатил за жизнь слишком высокую цену, и такая жизнь ему уже не нужна. Но судьба не проявляет к нему милосердия: ему не суждено сдохнуть даже в сортире. Он не мог умереть как человек, он остался с тем, за что так упорно боролся – с жизнью.

Жаль его? Да, жаль. И можно было бы выстроить на его душевных муках целый фильм – «Проверку на дорогах», если бы не было Сотникова, который умер как человек.
Оправдание предательства, попытки спасти и дать шанс тем, кто предал, и уж тем более воздвижение им памятников и создание музеев – оскорбление памяти Сотникова. Тот, кто не сумел умереть как человек, должен сдохнуть как собака. Кого-то это избавит от мук совести, кого-то накажет, а ныне живущих – предостережет. У предателей не должно быть второго шанса. Они упустили свой шанс, они перешагнули барьер, который не смогла преодолеть простая русская женщина, мать четверых детей.
Фильм Германа словно дает разрешение на предательство под давлением обстоятельств непреодолимой силы, словно шепчет на ухо: «Ты не один такой, Рыбак! Не бойся! Тебя пожалеют и простят! Все понятно, все живое стремиться жить, твоя жажда жизни сильней тебя, и в этом нет ничего зазорного!» И недаром расхожей стала фраза «Нас там не было, и не нам их судить».
Фильм Ларисы Шепитько возводит в душе непреодолимый барьер предательства, внутренний запрет предательства. Ужас перед ним, ужас остаться после этого наедине с жизнью и наедине с совестью. Повеситься в сортире – вот все, на что может рассчитывать предатель. Вот все, чего он достоин.
«Проверка на дорогах» опустила начало истории. «Поповское слово» милосердие в этой истории неуместно. Страшна не ложь – ложь можно развенчать. Страшна Германовская часть правды, потому что развенчать ее очень трудно, почти невозможно. Ларисе Шепитько удалось это блестяще. Вечная ей память и низкий поклон за этот фильм.
 
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 13 февраля 2019 в 10:22 Просмотров: 301
Метки: Кино, Страна
-
27Авг2009
Новый сайт начинает свою работу. Не все еще гладко, что-то я обкатаю в процессе, но в общем и целом — можно звать гостей!
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 11 декабря 2018 в 5:12 Просмотров: 373
Метки: Сайт
-
06Июн2009
(размышлизмы о правде жизни в литературе)

Навеяно постом в сообществе авторам.сом «Эстетика и романтизм».
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Я нарочно спрятала текст под кат, чтобы у читателя сего сообщения было время подумать, что он в первую очередь видит на фотографии. Лужу или лес?
Довольно грязная лужа, на самом деле, наступить в которую было бы очень неприятно. Я шла по дороге, обходя эти лужи, пока не увидела в них отражения голубого неба и майской зелени. Я фотограф-любитель (большой любитель), я иду и щелкаю все, за что зацепился мой глаз, благо размер карты (4 гига) позволяет не выбирать.
А вот и размышлизмы (сугубо ИМХО).
За что я люблю Федора Михайловича, так это за то, что, взяв дрянного человечишку, он покажет его так, что мы не сможем не увидеть в нем чего-то хорошего. Так же и с фоткой – можно видеть грязную лужу, а можно – отражение в ней. Когда я читаю современную прозу, я частенько натыкаюсь на подробные описания «грязных луж». Как правило, это зовется «правдой жизни». Я и сама не чужда ввернуть иногда что-нибудь такое, отчего читателя будет тошнить, тошнить по-настоящему, физиологически, а не фигурально. Я могу, я проверяла. Чего стоит описание моей «черной мессы» в «Учителе» или появление в лагере раненых разбойников в «Черном цветке». И я обычно имею перед собой конкретную цель, которой добиваюсь. Но ведь сколько книг пишутся совершенно с другими целями!
Когда мне было лет 15-20, я искала в книгах «правду жизни», потому что мне катастрофически не хватало собственного опыта. Я читала правду жизни у Хемингуэя и Ремарка, а не у Эдички Лимонова, конечно, и все же… Однажды наступил момент, когда я захлопнула книгу Хемингуэя и сказала, что мне этого не надо. Я выросла. Мой собственный жизненный опыт, может, и не перехлестнул ужасов «По ком звонит колокол», но я уже не нуждалась в них. Я и без этого знала, что такое настоящая жизнь. Я не хочу описаний грязных луж, я знаю о них сама. Я хочу отражения голубого неба и майской зелени в этих лужах.
Писатель, который может увидеть в грязной луже отражение голубого неба гораздо интересней. И непревзойденным (с моей точки зрения) в этом остается Достоевский.
Произведения авторов, которые наполняют свои книги грязными лужами, как правило имеют больший спрос на рынке. Почему? Потому что каждое из них кричит: посмотри, сколько вокруг дерьма! Посмотри, я такое же дерьмо, как ты! И на фоне героев таких книг чувствуешь себя едва ли не спасителем человечества. А мне кажется, это беспомощность автора. Заметить грязную лужу может каждый, много ума не надо. Ты попробуй сначала увидеть в ней небо, а потом попытайся уверить в этом остальных. Я думаю это – основная задача искусства. Любого искусства.
ЗЫ. Но все вышесказанное не означает, что я люблю розовые сопли в сиропе.
А вот вам напоследок еще и канава. Гы…

Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 13 февраля 2019 в 10:23 Просмотров: 598
-
17Май2009
Начну издалека, и снова по «Шести прогулкам в литературных лесах» Умберто Эко, которые рекомендую к прочтению.
Трудно в двух словах объяснить, кто такой «образцовый читатель», но это понятие никак не связано с понятием «целевой аудитории». Образцовый читатель это тот, кто, взяв в руки книгу, готов стать таким, каким его видел автор, когда книгу писал. Для комедии – готовый смеяться, для трагедии – готовый плакать. Образцовый читатель – это настроение, а не личность.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Умберто Эко пишет:
«Разумеется, в распоряжении автора есть определенные, характерные для каждого жанра сигналы, которыми он может воспользоваться, чтобы указать дорогу своему образцовому читателю; однако сигналы эти могут быть крайне расплывчаты. «Пиноккио» Карло Коллоди начинается так:
Давным-давно жил да был… «Король!» — воскликнут мои маленькие читатели. Нет, не угадали. Давным-давно жил да был кусок дерева.
Это очень многослойный зачин. Сначала Коллоди вроде бы сигнализирует, что сейчас начнется сказка. Как только читатели убедились, что это история для детей, на сцене, в качестве собеседников автора, появляются дети и, рассуждая как дети, знакомые с законами сказок, делают неверное предположение. Так, может, эта история все-таки не для детей? Чтобы оспорить это ложное предположение, автор снова обращается к своим маленьким читателям, так что они могут продолжать читать историю, написанную как бы для них, с тем лишь уточнением, что сказка будет не про короля, а про куклу. И в итоге они не будут разочарованы. Однако этот зачин — еще и кивок в сторону взрослых. А может, эта сказка — и для них? И может, кивок означает, что они должны читать ее в другом свете, однако в то же время притвориться детьми, чтобы уяснить аллегорический смысл повествования? Этого зачина было достаточно, чтобы породить целую кучу психоаналитических, антропологических и сатирических прочтений «Пиноккио», причем не всегда лишенных смысла. Возможно, Коллоди специально устроил двойную игру и подлинное очарование этой большой маленькой книги вытекает именно из этого предположения.
Кто определяет правила игры и очерчивает ее пределы? Другими словами — кто создает образцового читателя? «Автор», — немедленно ответят мои маленькие слушатели.»
Обложка – это еще раньше зачина. Она способна создать образцового читателя за несколько секунд. И горе автору, если обложка сформировала неправильный стереотип в голове у читателя. Хорошо если текст с первых строк его сломает. А если нет? Я даже не говорю о том, что книга попадет не в свою целевую аудиторию, последствия этого и так понятны. Я говорю о ситуации, когда читатель брал книгу в руки с определенным настроением, а она обманывает его ожидания.
Обложка – это заявление. Это цепочка зрительных образов, которые обрабатывает подсознание, цепочка стереотипов, уже сложенных в голове у читателя – и традициями, и маркетингом издательств, и собственным жизненным опытом. Это символы, которые мы относим к тому или иному жанру, эмоциональному настрою, степени серьезности и прочее.
Маркетинг издательств направлен на то, чтобы продать тираж любой ценой (это, конечно, относится к авторам малоизвестным, в отношении которых никто не станет делать серьезных долгосрочных вложений в рекламу). Издатели – не всегда дальновидные бизнесмены, они вложили деньги в тираж и хотят их вернуть, и вернуть быстро. Цель автора – создать долгосрочный спрос на свои книги, а для формирования долгосрочного спроса важны не быстрые продажи, а продажи, точно попадающие в целевую аудиторию. Если же автор неизвестен, если его книгу читатель берет в руки в первый раз, сделать его своим «образцовым читателем» очень важно. Я писала об этом у себя в журнале «Об образцовых и эмпирических читателях, о доверии к авторам и немного Умберто Эко»
Когда мне говорят, что обложка должна быть яркой, должна издали бросаться в глаза, мне делается как-то не по себе. Вот так просто? Бросилась в глаза и все? Детство какое-то… Я в семь лет перестала выбирать книги по критерию яркости иллюстраций. А те, кто этот «возрастной» рубеж еще не преодолел, книг вообще не читают.
Все написанное здесь не отменяет «технических» требований к обложке, и забывать о том, что обложка иногда единственная реклама книги тоже нельзя. Но реклама рекламе рознь. Мне кажется, чтобы сделать правильную обложку, тоже нужно обладать талантом, особым чутьем…
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 13 февраля 2019 в 10:24 Просмотров: 290
Метки: Литература
-
08Май2009

В детстве у меня была книга: большая, как толковый словарь, в синем переплете, с огромными цветными картинками внутри, переложенными тонкой желтой калькой. Я всегда читала лежа и только эту волшебную, великолепную книгу – за столом. Мне было лет семь.
Собираясь разрабатывать новый «сказочный тест», я сперва обратилась к мифам Древней Греции и несколько дней работала над ними. Но что-то не пошло… (что не умаляет изысканности древнегреческих мифов). Мне хотелось поработать с чем-то другим, породнее… Как в моей голове появилось воспоминание о Бажове?
И с первой же страницы, которую я открыла, у меня захватило дух. Все мы уверены, что знаем «Уральские сказы», все помним о городке Сысерть, о Полевой, о Думной горке. Все знаем историю о каменном цветке и о Даниле-мастере. Все знакомы с Хозяйкой Медной горы.
Но восприятие взрослого отличается от восприятия ребенка. И сначала я погрузилась в мир удивительного живого языка. Я смаковала слова, пробовала их на вкус, я раскладывала их на приставки, корни и суффиксы, чтобы постичь их гармонию. В этом языке есть что-то первозданное, как в древних стенах крепостей. Стоялый лес, ездить на полозу, отстрадовали, беспутица, доступить… И француз Фабержей.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
А потом мне открылся мир Мастеров, гордых собой и своим делом. Мастерство, которое стоИт выше денег. Радость труда, любовь к ремеслу. Может быть, потому наше поколение и ищет от работы именно радости, что в детстве мы читали эти сказки? А те, кто идет нам на смену, этой радости понять не умеют?
Любовь к камню, «в коем радость земли собрана». Любовь к земле, к природе, которая делает простого человека Художником. «Я из окошечка на ту вон полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видишь, под дождиком другое. Весной так, летом иначе, осенью по-своему, а все красота. И конца краю той красоте не видится.»
Эх, не видится! Тысячу раз прав Бажов! В каждой травинке, в каждом листике – непередаваемая красота. Где оно все? Почему мы об этом забываем? Почему не пишем и не читаем об этой красоте?
А потом началось и волшебство. Маленькое, простенькое волшебство, рожденное народной фантазией. Не абсолютное добро, нет. Противоречивое волшебство, опасное для любого, как для самого честного и смелого, так и – тем более – для труса и злодея. Народная фантазия редко рождает абсолютно добрые образы, в них, как ни странно, отражается глубокое знание жизни, труднейшая философия восприятия бытия. Народ поднимает на пьедестал архетипы, которые психоаналитикам остается лишь постигать. И в сказках человек побеждает Волшебное, заставляет служить себе, помогать себе. Силой своего духа, самоуважением, мастерством, любовью, отчаяньем. И волшебство снимает перед ним шапку, встает на его защиту.
Я изучала жизнь на Уральских заводах времен крепостного права (по документам, не по сказкам). Когда мне было семь лет, я слишком верила в сказку, в счастливый конец – я не видела беды за светлыми историями о Волшебстве, которое обязательно придет на помощь. Теперь я не ребенок. И теперь я понимаю: за светлыми Уральскими сказами Бажова стоят трагедии, невымышленные трагедии народа, который, защищаясь, придумывал себе Надежду. И верил в нее всей силой своего воображения. Потому что без этой Надежды жизнь его не имела смысла.
В сказе «Таюткино зеркальце» безответный рабочий, вдовец, должен спуститься в гору, которая, скорей всего, обвалится, стоит только появиться там человеку. И он берет с собой ребенка, потому что если ему суждено погибнуть, то и дочь его проживет недолго. Он идет на смерть, держа девочку за руку, и надеется лишь на то, что Хозяйка пощадит дитя.
 Только я знаю, что это сказка. Я знаю, скольких рабочих гора не пощадила. И я плачу от горя и от радости, и я хочу поверить в сказку, и не могу не верить в нее, потому что жить иначе – немыслимо… Только я знаю, что это сказка. Я знаю, скольких рабочих гора не пощадила. И я плачу от горя и от радости, и я хочу поверить в сказку, и не могу не верить в нее, потому что жить иначе – немыслимо…
Я смотрю на фотографии Рима, Лондона, Парижа. Да, любопытно. Но вот где мне по-настоящему хочется побывать – это в городке Сысерть. Многие ли из тех, кто видел Рим, бывали в этом месте, трогали камни Думной горки? Меня часто спрашивают, почему я не стремлюсь заграницу? А ответ прост: я и в своей стране не видела сотой доли того, что хочу увидеть и потрогать. Да мне не хватит всей жизни, чтобы побывать везде, где я хочу! Рим подождет. Я ничего не потеряю, если не увижу его. И я очень много приобрету, коснувшись камней Белозерска, Соловецких островов, искупавшись в Байкале, посмотрев на Камчатку поздней весной и полазив по скалам Урала. Рим пождет…
Автор: Ольга Денисова. Обновлено: 13 февраля 2019 в 10:25 Просмотров: 275
Метки: История, Литература, Религия, Сказки
|






























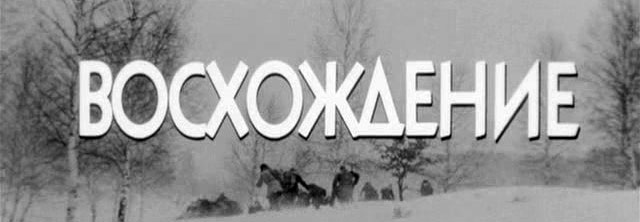










 Только я знаю, что это сказка. Я знаю, скольких рабочих гора не пощадила. И я плачу от горя и от радости, и я хочу поверить в сказку, и не могу не верить в нее, потому что жить иначе – немыслимо…
Только я знаю, что это сказка. Я знаю, скольких рабочих гора не пощадила. И я плачу от горя и от радости, и я хочу поверить в сказку, и не могу не верить в нее, потому что жить иначе – немыслимо…
Новые комментарии